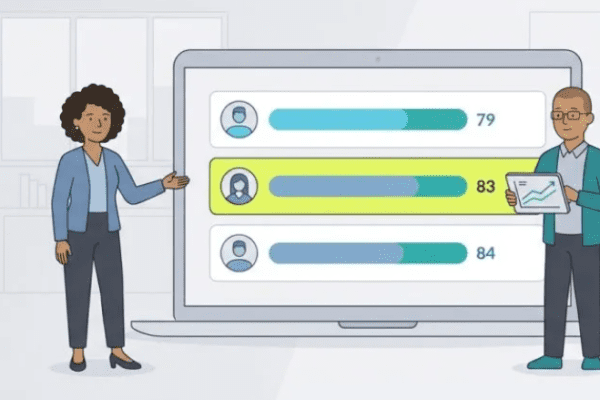Обыватели и снобы. Воспитание мальчиков
Местом праздных и праздничных скоплений в городишках районного чина был парк. Там имелись «танцы» — круглая, залитая бетонной стяжкой площадка, «топтогон». Где, умом тронуться, танцевали под духовой оркестр падеграс и падеспань. Но коронным номером был американский вальс-бостон. Не могу себе этого вообразить.
В парке имелось летнее заведение с роскошным названием из трофейного кино «Голубой Дунай». Это были выкрашенные синей краской решетчатые деревянные беседки, где произрастали долговязые поганки одноногих столов. Ещё имелась украшенная шоколадным пасьянсом витрина буфета с ядовитой рюмочной и водянистым пивом в пузатых кружках. Там колотили о столы вяленой воблой, искрящейся солью, и фигурно, всяк на свой манер, прикусывали картонные мундштуки папирос, чечёточно забивая доминошного «козла».
День Победы в праздничных святцах пока не значится. Ветеранов ещё нет. В «Голубом Дунае» гуляют ещё не старые, крепко пьющие, драчливые и весёлые мужики. Руки у них навек испачканы тусклыми кляксами невзрачных наколок. У одних них за спиной фронт, госпитали, у других тюрьмы и лагеря, а у иных и то, и другое, и третье.
Измаил Исхаков, лучший и первый друг моего отца, сначала сидел, потом воевал. Сидел по малолетке, в Махачкале.
Туда привёз его отец из Балкарии, где были беспорядки. Усадил ночью в седло за спину, привёз в Дагестан, поручил дальним родственникам и был таков
Пацан от них сбежал и прибился к блатным, беспризорничал. Посадили. На втором году войны предложили: или перевод на взрослую зону, или штрафбат. Он выбрал второе и попал в Сталинград, где выжил и комиссовался по ранению. Правая рука у него была изувечена. Указательный палец будто пёс отгрыз, средний прижат к ладони, как намертво приклеенный, большой, с фиолетовым ногтем, свернут на сторону, безымянный согнут в крюк, рабочим оставался лишь мизинец. Но он этой искалеченной рукой дрался как чёрт. И работал.
Его работа была самой лучшей. Называлось это восхитительное заведение просто и коротко, как выстрел, – тир. Стрелковый тир ДОСААФ. В просторечии называлось, «работает в досафе».
Никто толком не знал, что они, эти «досафовские», делают, но многие догадывались – бездельничают. Однако бездельничают в костюмах и при галстуках. Мой отец, к примеру, тоже там трудился на дивной должности спасателя при бассейне, в котором не водилось ни капли воды. Вообще никогда, ни разу, ни одного дня. Но должность спасателя была, и он её занимал. На работу ходил при параде. Штаны тогда шили широкие, брючины колыхались по сторонам, а пиджаки, напротив, были тесноватые, но плечистые и двубортные. И шляпа полагалась.
Отец вообще выбирал себе забавные поприща. Не разбирая, где какой цвет, работал в художественной артели, шлёпавшей клеенчатые ковры с оленями и лебедями.
Устроился однажды лектором в общество глухонемых. И – непостижимо – освоил этот диковинный ручной язык
Кто его этому научил? Но лектором был исправным. Глухонемые его обожали. Они ему придумали имя. Вздымали на уровне головы обе ладони, а потом резко откидывали их назад. Показывали его шевелюру. Он отращивал длинные волосы и зачесывал их на загривок, открывая смуглый с ранними залысинами лоб. Во времена «боксов» и «полубоксов» это был едва ли не вызов.
Он вообще был пижон своего времени. Усики носил миллиметровой ниточкой, они старательно повторяли рисунок верхней губы, но от основания носа отстояли выскобленной начисто полоской. Ювелирная работа брадобрея. Усики Рашида Бейбутова, который «аршинмалалан». Отца звали Ахмат, охотно откликался на Лёшку.
Он редко брал меня с собой, потому все походы с ним помню отчетливо. Иногда в баню налаживались. Мне там нравилось. Влажная телесная духота раздевалки, где жуткие голые дядьки с огромными животами и тёмными мешочками, свисающими из мшистых пахов, смешно топтались в цинковых шайках, а толстый усач в пятнистом халате их за это сердито ругал.
Завидев меня, он пучил глазенапы и хрипло верещал: «Сычас письку малчышке будэм рэзать! Гдэ мой ножьик?»
Я прятался у отца за спиной и показывал банщику язык, а он хохотал, сверкая изо рта золотым зубом.
Захаживали в тир к Измаилу. Там было людно, матерно, шумно, накурено, перегарно, но сквозь вонь пробивался саднящий горло, но упоительный запах ружейного масла. Стрелки стояли, опершись локтями о прилавок, томительно долго целились и вмиг выкашливали заряд с нутрянным металлическим гуком. Потом с хрустким кряком переламливали винтовку, неловкими пальцами вгоняли дробинку в отверстие патронника и лихо подбив ствол ладонью снизу, до щелчка, снова прикладывались. Я готов был торчать там вечность…
В день рождения отец повёл меня туда. Было малолюдно, поскольку первое января, а в тире вообще никого. Из подсобки вынырнул Измаил и тараща шальные глазищи, осклабившись до ушей, заорал: «О! Кролик! Сколько стукнуло? Три? Тогда стырлять будем!» Отец усадил меня на боевой прилавок ногами вперёд, Измаил зарядил ствол и сунул его мне.
Прорезь видишь? Мушку видишь? Харрашо! Совмещай и — огонь!
Ни черта я не видел. Отец подхватил левой рукой цевьё, приклад подогнал к моему плечу, правой подтянул мою ладошку к спусковому крючку, уложил на него мой палец и шепнул: «Давай!» Сил не хватало. Отец наложил свой палец сверху и надавил – ствол вздрогнул, гулко тенькнул, фигурка мишени звякнула, свалилась и закачалась вниз головой. Попал! И началось: Измаил заряжал, я стрелял, фигурки падали – это был сон. Палец нестерпимо болел, но я стрелял, а они послушно падали. Никогда потом я не был так счастлив. Рухнул вниз пятнистый, коцаный пульками слон, свалился грузовик, застучали молотками медведи, задрала хоботок вражеская пушка, пуфф, дзень, тюк, кряк, попал, попал!
«Стоп! – заорал вдруг истошно Измаил. – Сычас главный цель будем поражать!» Это была мельница, она торчала в самом центре стенда, в неё никто и никогда не попадал. Он тщательно зарядил и почтительно подал мне ствол. Выстрел. Крылышки мельницы завертелись с божественным жужжанием. Попал… Позади одобрительно загудели мужские голоса, кто-то захлопал. Я и не заметил, как тир заполнился людьми. Чей-то голос насмешливо произнёс: «Ты ж смотри, ититская сила, ворошиловский стрелок прям…» Хозяин тира гордо поправил: «Измаиловский!» И расстегнув зубами ремешок снял с руки часы и протянул их мне.
Много позже я наконец догадался, что хитрый кавказец всё это подстроил
Так выставил мишени, что довольно было попасть в жестяную фигурку, а не в маленький белый пятачок сбоку от неё.
Отец спустя несколько месяцев навсегда уехал. Мы встретились в Москве через двадцать два года. Я рассказал ему эту историю, он сделал вид, что вспомнил.
А я всю жизнь хорошо стрелял. И до сих пор стреляю превосходно.
Вот так следует воспитывать мальчиков.
Только так.
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472