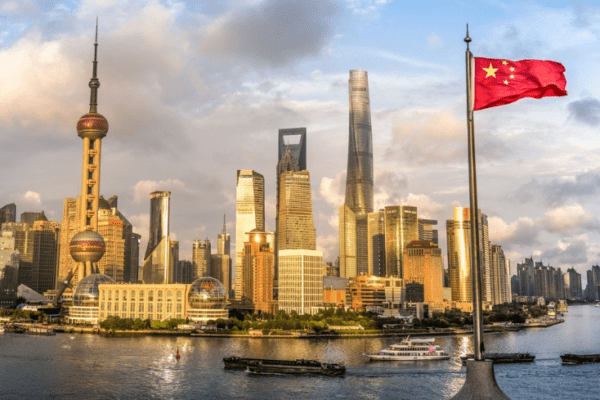Поправки в ОСМС: усиление финансирования и новые возможности для сельской медицины
14 июля были одобрены поправки в правила обязательного социального медицинского страхования, которые вступят в силу с 1 января 2026 года. Этот шаг стал ответом на две ключевые проблемы: дефицит финансирования фонда ОСМС и необходимость выравнивания качества медицинской помощи между городом и сельской местностью.

Система обязательного страхования за последние годы показала, что устойчивость её бюджета напрямую зависит от структуры поступлений. Порог дохода, с которого взимались взносы, был ограничен десятью минимальными зарплатами –это искусственно сдерживало сборы с высокооплачиваемого сегмента. Новая планка в 40 минимальных зарплат расширяет базу фонда и делает поступления менее уязвимыми к экономическим колебаниям.
Второе направление – включение в систему безработных и самозанятых. Сейчас именно эти группы часто выпадают из страхового покрытия, что создаёт нагрузку на государственные программы бесплатной помощи. Гибкая схема участия, где часть взносов берёт на себя государство, должна сократить число граждан без доступа к плановой медицинской помощи и стабилизировать финансирование.
Для сельской медицины эти поправки имеют особое значение. Дополнительные средства планируется направлять на укрепление первичного звена: амбулатории, ФАПы, выездные бригады. Это не только закупка оборудования и лекарств, но и повышение квалификации медперсонала, а также привлечение новых специалистов. Сельский врач, получающий доплаты и работающий в оборудованном кабинете, с меньшей вероятностью уедет в город –а это один из хронических вызовов системы.
Нурлан Кожахметов, врач-организатор здравоохранения с опытом работы в частных клиниках и консультации региональных больниц, отмечает, что повышение верхнего порога взносов создаёт не просто «дополнительный доход» для фонда, а именно целевой ресурс. «В городах дополнительные деньги часто идут на расширение сервиса. В селе их эффект сильнее: новый аппарат УЗИ или автомобиль для выездной бригады сразу меняют доступность и скорость помощи», –говорит он.
Вместе с тем, повышение доходной части фонда не гарантирует автоматического улучшения качества. Риск размывания целевого назначения средств остаётся –дополнительные поступления могут раствориться в общесистемных расходах, не дойдя до сельских организаций. Поправки предусматривают отдельный порядок финансирования для первичного звена на селе, но его эффективность будет зависеть от прозрачности распределения и жёсткого контроля.
Для устойчивости изменений важен и обратный эффект –как воспримет нововведения бизнес, который будет платить больше. Если повышение порога не будет сопровождаться улучшением качества услуг для застрахованных, доверие к системе ОСМС останется низким, что скажется на собираемости взносов.
С точки зрения долгосрочной перспективы, эти поправки –шанс перестроить финансирование так, чтобы сельское здравоохранение перестало быть «слабым звеном» системы. При условии, что средства действительно будут направлены на приоритетные задачи, уже в первые два года можно ожидать сокращения кадрового дефицита, обновления диагностической базы и уменьшения числа обращений в областные центры по причинам, которые можно решить на месте.
Опыт стран с развитой сельской медициной показывает, что сам по себе рост поступлений в систему страхования не решает проблему доступности.
Канада использует комбинированную модель: часть налогов направляется в провинциальные программы, а страховые сборы дополняются целевыми грантами для малых населённых пунктов. При этом отчётность по каждому гранту открыта, что снижает риск нецелевого использования. Австралия финансирует удалённые клиники через специальный «сельский фонд здравоохранения» –выделенные средства нельзя перераспределить на городские проекты без парламентского одобрения. Финляндия сочетает страховые взносы с муниципальными дотациями, но ключевым фактором считает не деньги, а систему «ротации кадров», когда врачи обязаны часть времени работать в сельских амбулаториях, получая за это налоговые льготы.
Эти примеры показывают, что устойчивое сельское здравоохранение требует не только финансовой подпитки, но и организационных механизмов, которые гарантируют целевое использование средств, привлечение кадров и постоянный контроль качества.
Для Казахстана внедрение поправок к ОСМС – шанс изменить ситуацию, когда сельская медицина воспринимается как второстепенная. Если дополнительные средства действительно будут направляться в первичное звено, уже в первые два года можно ожидать обновления диагностической базы, сокращения кадрового дефицита и уменьшения числа обращений в областные центры по причинам, которые можно решить на месте.
Однако ключевым условием успеха остаётся выстраивание системы контроля: публикация данных о распределении средств, обязательные аудиты, участие общественных советов при региональных управлениях здравоохранения. Без этого даже увеличенный бюджет не приведёт к системным изменениям.
Поправки закладывают финансовую основу для таких изменений. Вопрос в том, удастся ли государству и профессиональному сообществу выстроить модель, где каждый дополнительный тенге действительно работает на улучшение медицинской помощи там, где она сегодня наиболее труднодоступна.
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472