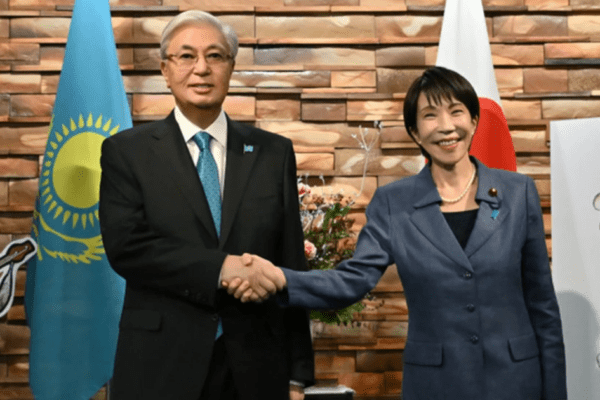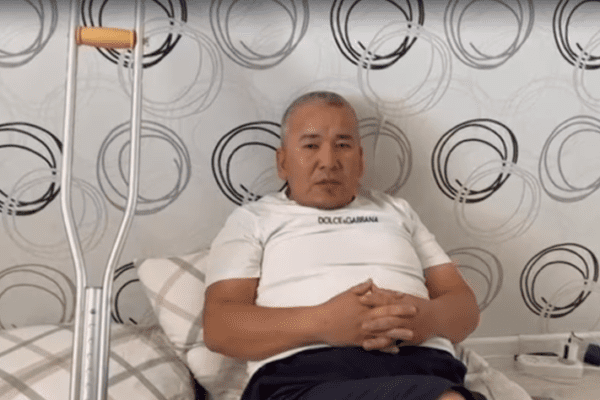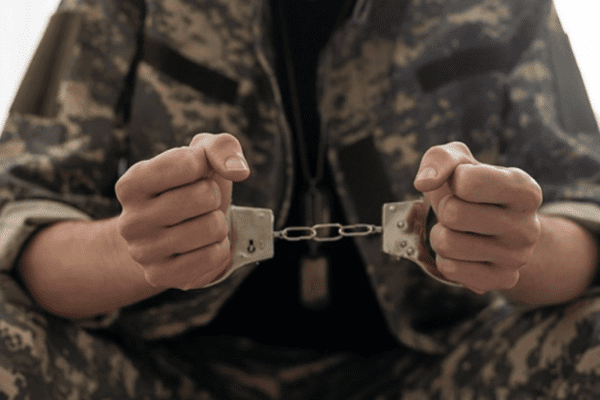Образование для всех: как Казахстан выстраивает институциональную инклюзию
9 июля 2025 года в ходе презентации Министерства просвещения был представлен очередной промежуточный доклад об охвате системы образования инклюзивными формами. Согласно представленным данным, инклюзия достигла 70% в учреждениях дошкольного образования, 90% – в школах и 81% – в организациях технического и профессионального образования (ТиПО).

Эти показатели формально подтверждают высокую степень доступности образовательных учреждений для детей с особыми образовательными потребностями.
Тем не менее, как отметили представители экспертного сообщества, количественные показатели не всегда соответствуют качественным изменениям. Само понятие инклюзивности остаётся вариативным в применении: в ряде случаев речь идёт о наличии пандусов и санитарных условий, тогда как другие аспекты – подготовка кадров, адаптация методик, индивидуализация образовательных траекторий – реализованы частично или формально.
В докладе прозвучало, что в стране продолжается работа по совершенствованию деятельности психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), ответственных за определение особых образовательных потребностей и маршрутизацию детей по соответствующим программам. Однако система этих консультаций неоднородна по регионам, имеет различную степень оснащения и квалификации кадров. В условиях урбанизации и миграции это создаёт диспропорции в доступе к качественной оценке и сопровождению.
Отдельное внимание в обсуждении было уделено подготовке педагогических кадров. Программы переподготовки и курсы повышения квалификации по вопросам инклюзии охватили значительное число учителей, однако глубина этих программ и их практическая направленность по-прежнему вызывают вопросы. В некоторых регионах школы, заявленные как инклюзивные, фактически не имеют специалистов-дефектологов, тьюторов или доступной инфраструктуры.
Доктор социальных наук Алия Турсунова, специалист по инклюзивному образованию, считает, что на текущем этапе основной задачей становится институционализация достигнутого:
«Формально охват вырос, и это важно. Но если мы говорим о полноценной инклюзии, то речь должна идти не только об участии ребёнка с особыми потребностями в классе, но и о наличии индивидуального маршрута, адекватной поддержки и системной работы с родителями. Без этого инклюзия остаётся административной мерой, а не частью образовательной среды. Сейчас важен переход от инфраструктурной адаптации к содержательной – это означает изменения в учебных программах, подходах к оценке, межведомственном взаимодействии».
Среди озвученных приоритетов – развитие ресурсных центров в школах, расширение дистанционных форм сопровождения для отдалённых регионов, цифровизация учёта потребностей детей и автоматизация маршрутов сопровождения. В долгосрочной перспективе предполагается внедрение единой системы мониторинга качества инклюзивного образования, включая механизмы внешней оценки и обратной связи.
Ранее в Стратегическом плане развития системы образования до 2030 года уже были зафиксированы цели по повышению инклюзивности всех уровней образования, однако реализуемость этих целей напрямую зависит от устойчивого финансирования, координации между ведомствами и готовности кадровой системы. Вопрос инклюзии при этом тесно связан с социальной политикой, поскольку касается не только прав детей, но и системы поддержки их семей, включая доступ к психологической, юридической и социальной помощи.
Таким образом, несмотря на достигнутые количественные показатели, система инклюзивного образования в Казахстане в 2025 году всё ещё находится в переходной фазе. Очевиден тренд на институциональное закрепление, но без качественной настройки механизмов реализации и вовлечённости специалистов риски формализации сохраняются. Следующий этап реформ потребует не декларативной, а методической и ресурсной поддержки – с учётом региональных различий и долгосрочных целей образовательной политики.
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472