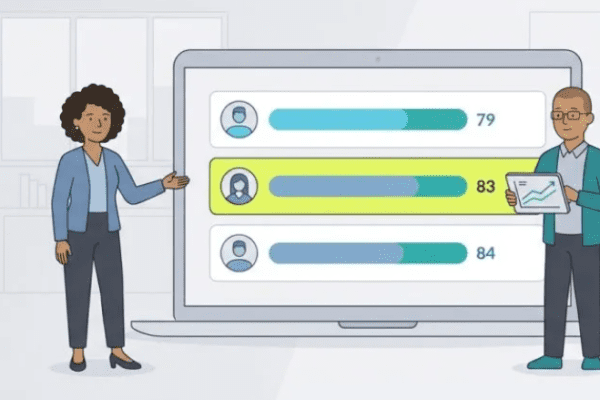Как Казахстан выстраивает религиозную политику без потери светскости
Религиозная сфера в Казахстане остаётся под пристальным вниманием государства. При этом речь идёт не о кризисных вызовах или попытках пересмотра базовых принципов, а о последовательной институциональной настройке. Летом 2025 года вступили в силу изменения в закон о религиозной деятельности, а также были обновлены регламенты работы профильных государственных органов.

Эти шаги не меняют светский характер государства, но фиксируют его усиливающееся стремление к нормативному контролю над религиозным полем. Подобная политика демонстрирует типичную для казахстанской модели установку: религия признаётся социально значимым фактором, но не допускается к участию в процессе формирования публичной политики.
Таким образом, ключевой тренд – не расширение пространства для автономии религиозных объединений, а формализация и технизация процедур их включения в правовую систему. Границы допуска заданы заранее, и государственная стратегия направлена на их поддержание, а не пересмотр.
Одним из ключевых событий стало вступление в силу поправок к Закону «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». Они были приняты весной и начали применяться с июля 2025 года. Изменения касаются процедур регистрации, согласования деятельности и информационного сопровождения. В частности, уточнены требования к уставам, введена необходимость предварительного уведомления о религиозных мероприятиях за пределами культовых зданий, расширен перечень оснований для отказа в регистрации.
Смысл изменений – не в жёстком ужесточении, а в устранении неопределённостей, которые раньше создавали пространство для произвольного толкования. Новый регламент ориентирован на снижение административного риска: как для самих объединений, так и для органов, отвечающих за мониторинг. В результате религиозная политика приобретает форму управленческой дисциплины, где важно не убеждение, а соблюдение процедуры.
Параллельно пересматривается архитектура взаимодействия с религиозными организациями. Министерство культуры и информации закрепило за собой ведущую координирующую роль, одновременно сократив число согласовательных инстанций на региональном уровне. Это должно повысить прозрачность и предсказуемость решений – при том, что степень допустимого содержания деятельности по-прежнему регулируется нормативно, а не исходя из содержания обращений верующих или позиций самих объединений.
Публичный религиозный дискурс в Казахстане встроен в более широкую конструкцию государственной идеологии, где приоритет отдан гражданской идентичности, светским основам и централизованной интерпретации традиций. Выступления официальных лиц, включая постоянные обращения к вопросам межконфессионального согласия и недопустимости радикализма, не означают вовлечения религиозных структур в процесс принятия решений. Их функция – символическая, а участие в обсуждении социальной повестки строго регламентировано.
Как отмечает политолог Мурат Тулеутаев, старший научный сотрудник Лаборатории политических исследований «Даналық», такая модель строится на специфической трактовке религии как фактора стабилизации, но не развития:
«Казахстанский подход демонстрирует высокую управляемость религиозного поля – но не предполагает институциональной автономии его акторов. Религиозные объединения признаются значимыми для общества, но их функциональная роль ограничена ритуальной, воспитательной и благотворительной сферой. Это снижает риск радикализации – но также не даёт системе механизмов к самообновлению. Любая попытка содержательной инициативы трактуется как выход за рамки допустимого участия».
На институциональном уровне ключевой площадкой по религиозной тематике остаётся Межведомственная комиссия по делам религии (МКДР), действующая при Правительстве. Её состав обновлён в июне 2025 года – с расширением блока, отвечающего за научно-экспертное сопровождение. Одновременно активизированы формы прямого диалога: усилилась работа с религиозными деятелями в формате выездных встреч, расширились форматы разъяснительной работы на местах.
Отдельное внимание уделено вопросам религиозной грамотности и профилактики деструктивных идеологий. Программа контрпропаганды радикализма реализуется с участием Академии «Нұр-Мүбарак» и Казахстанского института стратегических исследований. Основная цель – не борьба с убеждениями, а снижение уязвимости целевых групп к манипулятивному влиянию. Такой подход подчеркивает, что религиозная политика выстраивается не как борьба, а как управляемое сопровождение процессов.
Внутри этой рамки сохраняется активность и других площадок – в частности, Центра по исследованию проблем религии, Конгресса лидеров мировых и традиционных религий и Общественного совета при Министерстве. Их роль – не принятие решений, а кодификация позиций. Через эти структуры обеспечивается обратная связь, но не перераспределение влияния: предложения воспринимаются как источники информации, не как вызов нормативной системе.
Такая система характеризуется высокой степенью институционального контроля. Религия в ней выступает не как автономная сфера жизни общества, а как стабильный культурный элемент, встроенный в схему национального согласия. Государство не борется с религией, но и не делегирует ей функций. Оно признаёт её роль в консолидации, но не допускает размывания центра управления. Это позволяет сохранять внутреннее единство и минимизировать конфликтный потенциал, особенно в условиях многонационального и многоконфессионального состава населения.
С точки зрения Муратa Тулеутаева, подобная модель демонстрирует зрелость – но требует постоянной актуализации:
«Система функционирует устойчиво именно потому, что чётко определены рамки и роли. Однако на горизонте – вызовы, связанные с изменением демографической структуры, расширением цифровой среды и транснациональной религиозной коммуникацией. Если не обновлять каналы диалога и не повышать адаптивность процедур, возникнет разрыв между формальной стабильностью и фактическим многообразием запросов. Превентивная модернизация в этой сфере важна не меньше, чем контроль».
Таким образом, религиозная политика Казахстана в 2025 году демонстрирует движение к нормативной устойчивости, не нарушая светских основ государства. Она опирается на процедурные гарантии, институциональную ясность и стратегию профилактики, при этом оставаясь закрытой к спонтанным инициативам. Это позволяет сохранять предсказуемость, но требует постоянного внимания к точкам возможной инерции. В обозримой перспективе ключевым станет не вопрос управляемости, а способность системы адаптироваться к внутренним изменениям в религиозной и социальной среде.
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472