При Токаеве экономика стала более социально ориентирована – российский эксперт
О приоритетах сохранения экономического роста и преимуществах, которые отличают экономику республики от других стран, рассказывает преподаватель кафедры «Международные отношения, история и востоковедение» УГНТУ, экспертом Центра геополитических исследований «Берлек-Единство» (г. Уфа) Алексей Чекрыжов.
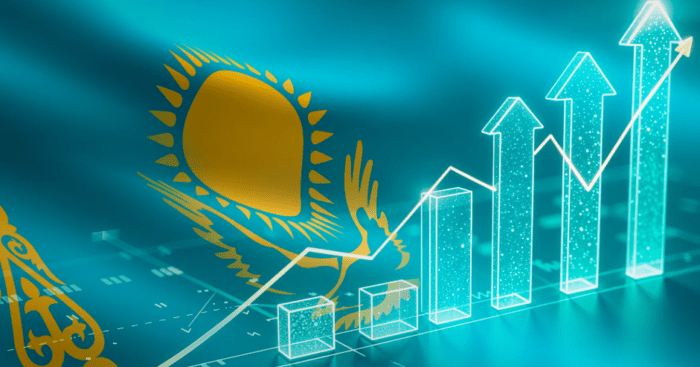
Алексей Владимирович, какие ключевые драйверы экономического развития Казахстана Вы можете выделить?
На языке экономистов развитие экономики Казахстана можно назвать умеренно нейтральным или умеренно позитивным. Экономика республики демонстрирует устойчивый рост, несмотря на геополитическую нестабильность, колебания цен на сырьё и новейшие логистические барьеры. По данным международных институтов, в 2023-2024 годах ВВП Казахстана рос в пределах 4-5%. Ожидается, что и в нынешнем году показатель роста ВВП будет в этом же коридоре. Встречается мнение, что такие темпы не соответствуют возможностям Казахстана, однако показатели РК всё ещё выше среднемировых.

Если говорить про ключевые драйверы экономического развития Казахстана, то здесь не будет особых сюрпризов. Конечно, это прежде всего традиционные секторы – добывающая промышленность. Так, нефтегазовая отрасль остаётся базой экономики. Более того, в 2024 году Казахстан увеличил добычу нефти до 90 млн тонн, во многом благодаря расширению Тенгизского месторождения и новым проектам на Каспии (всё большие темпы разработки набирает «Кашаган»). Кроме того, Казахстан уже традиционно входит в десятку крупнейших мировых производителей урана, занимает передовые позиции среди экспортёров меди, цинка и ферросплавов. В 2024 году рост в этом секторе составил около 6%, чему поспособствовали высокие цены на сырьё и инвестиции в переработку.
Сельское хозяйство также демонстрирует хорошие показатели. В последние 2 года прирост составил более 10%, а экспорт сельхозпродукции превысил 6 млрд долларов, согласно статистическим данным казахстанских СМИ. Наконец, Казахстан продолжает укреплять позиции в качестве крупного поставщика пшеницы (5-е место в мире). Но всё это традиционные сектора, которые Астана развивает десятилетиями, и они, конечно же, формируют основу экономического роста.
Если говорить о новых приоритетах и векторах, продвигающих диверсификацию экономики, то прежде всего стоит отметить IT-сектор, который растёт на 20-30% ежегодно. Серьёзный импульс этому придала миграция российских IT-компаний и специалистов после 2022 года, а также перерегистрация некоторых компаний из РФ в пользу казахстанской юрисдикции. В последние 2-3 года в Алматы и Астане открылись десятки аутсорсинговых центров и стартапов, а экспорт IT-услуг уже превысил 1 млрд долларов.
Изменилась ли экономическая ситуация в РК с приходом к власти Президента Токаева? Поменялись ли приоритеты?
Ещё в 2019 году экономическая политика Казахстана начала преобразовываться, что, однако, было не так очевидно на фоне пандемии. Я бы сказал, что Касым-Жомарт Токаев совместил преемственность в ключевых проектах, например в нефтегазовом секторе, с новыми приоритетами, такими как примат обеспечения социальной стабильности и внедрение инструментов привлечения зарубежного капитала. Более того, после событий января 2022 года и на фоне геополитических потрясений последних лет курс на реформы ускорился, но их реализация сталкивается с барьерами: нехваткой инвестиций, политическим давлением со стороны западных акторов и т. д.
Опять-таки, остаются структурные проблемы в экономике, в числе которых: сырьевая зависимость, неравномерное развитие регионов. Тем не менее отмечу, что при Президенте Токаеве усилились программы индустриализации, инициированные ещё первым Президентом РК, с акцентами на обрабатывающую промышленность и агросектор. Например, в 2023 году доля перерабатывающей промышленности в ВВП выросла до 13%, а экспорт готовой продукции – на 20%. Запущены новые проекты в машиностроении (производство локомотивов, автомобилей), фармацевтике и пищевой промышленности. Вместе с тем развитие во многих других отраслях тормозит недостаток технологий. Хотя темпы преобразований пока отстают от амбиций Астаны, успех на этом поприще будет зависеть от способности власти привлекать инвестиции в меняющейся геоэкономической среде и маневрировать при текущих геополитических рисках.
Иными словами, на мой взгляд, при Токаеве экономика Казахстана стала более социально ориентированной. Несмотря на сохраняющиеся структурные проблемы, главным изменением можно обозначить сдвиг приоритетов в сторону «ползучей» стабильности и будущего технологического развития.
Как Вы оцениваете эффективность проводимых в Казахстане реформ по диверсификации экономики, инициированных Президентом Токаевым?
Инициативы администрации Касым-Жомарта Токаева в этой сфере, по моему мнению, можно оценить как необходимые и стратегически верные, но пока недостаточно эффективные для кардинального изменения структуры экономики. Конечно, в Казахстане осознают риски сырьевой зависимости и предпринимают шаги по развитию обрабатывающей промышленности, агропрома, IT и других секторов. Однако темпы трансформации экономической системы замедлены из-за системных ограничений, в числе которых инерционная бюрократия, непотизм и «кадровый голод».
Да и тот же нефтегазовый сектор тоже нуждается в модернизации. Одна из главных проблем – слабая глубина переработки сырья внутри страны, из-за чего Казахстан продолжает поставлять за рубеж преимущественно полуфабрикаты, а не готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Мощностей казахстанских НПЗ на сегодняшний день недостаточно, чтобы закрыть потребности даже внутреннего рынка.
Ещё одним барьером диверсификации остаётся инвестиционный климат. Несмотря на открытость для бизнеса в Казахстане, иностранные инвесторы по-прежнему сталкиваются с административными рисками. Это особенно критично в условиях глобальной конкуренции за капитал, когда соседние страны, такие как Узбекистан, также проводят реформы и предлагают льготные условия.
Тем не менее, даже не на 100 % успешные инициативы лучше, чем отсутствие намерений по обеспечению экономической безопасности страны. Множество соответствующих проектов казахстанских властей заслуживают одобрения, и рано или поздно «реализация» догонит «амбиции». Для прорыва Казахстану хватает точечных мер. Следом за ними придёт и комплексная трансформация экономической модели, включающая технологическую модернизацию, улучшение деловой среды и интеграцию в глобальные цепочки добавленной стоимости. Пока же страна движется в правильном направлении, но слишком медленно, чтобы в обозримом будущем переломить сырьевую зависимость.
Какой эффект дают усилия РК по переходу к «зелёной» экономике и устойчивому развитию?
Казахстан декларирует амбициозные цели в самых разных отраслях экономики, и для их достижения есть все основания. Но к вопросам развития «зелёной» экономики и энергетики я всегда подхожу максимально скептично. И дело здесь не в Казахстане, чья энергетика на 80% зависит от угля, а в невозможности качественного перехода к «зелёной» экономике без соответствующего технологического скачка во всём мире.
Так, в феврале 2023 года Казахстан принял Стратегию достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Её реализация требует радикальной трансформации промышленности, тогда как экономика остаётся привязанной к традиционным сырьевым отраслям. Конечно, в республике действительно запускают отдельные проекты в возобновляемой энергетике, но их доля в общем энергобалансе остаётся символической, а темпы изменений явно отстают от плановых показателей уже сейчас.
Социально-экономический эффект от «зелёного» перехода тоже пока неочевиден для большинства населения Казахстана. С одной стороны, строительство солнечных и ветровых станций создаёт новые рабочие места в отдельных регионах. С другой – угольные города, Экибастуз или Караганда, сталкиваются с рисками деградации, поскольку программы переобучения шахтёров и создания альтернативных производств реализуются слишком медленно. Наконец, на практике внедрение «зелёных» технологий сталкивается с отсутствием экономических стимулов для бизнеса. Уголь остаётся дешёвым и доступным, тогда как инвестиции в ВИЭ требуют значительных капиталовложений и долгой окупаемости.
Нынешний этап казахстанского «зелёного» перехода пока не меняет логику экономического роста. Страна продолжает активно экспортировать углеводороды, финансируя за счёт этих доходов точечные проекты в ВИЭ. Но если представить, что Астана решится на структурные реформы, такие как углеродный налог или жёсткое ограничение выбросов промышленными гигантами, многие отрасли экономики просто не выдержат такого давления. Поэтому, лично по моему мнению, нынешние тенденции перехода к «зелёной» экономике и энергетике по большому счёту декларативны. Но, повторюсь, это вовсе не «просчёты» Астаны, а больше глобальная тенденция. Среди позитивных эффектов от такой политики можно обозначить формирование институциональной базы ВИЭ. А в долгосрочной перспективе успех будет зависеть от способности Казахстана увязать экологическую политику с экономическими интересами, что потребует кардинальной технологической модернизации.
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472












