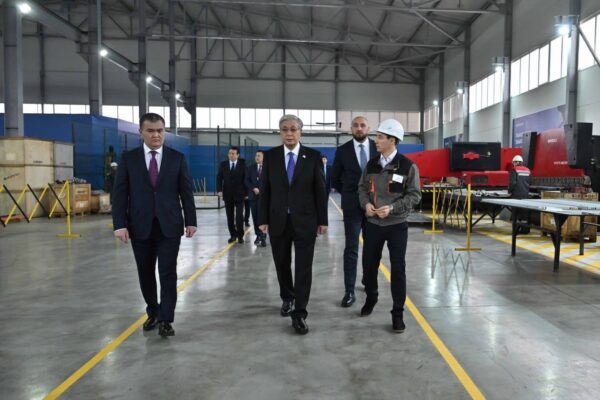Почему наука в Казахстане деградирует? Мнение эксперта
В Париже ЮНЕСКО представил доклад по науке до 2030 года: в мире расходы на науку за последние годы выросли на треть. Это огромные суммы. Есть даже аксиома: если на науку в течение ряда лет тратить менее 1% от ВВП, то ни о каком ее развитии не может быть и речи. А в какой ситуации находится сейчас Казахстан? Об этом мы поговорим с профессором AlmaU Владимиром Осколковым.
— Владимир Сергеевич, а мы сколько тратим?
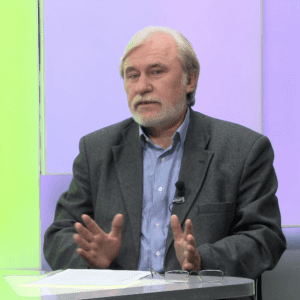 — Больше 0,3% мы не тратили никогда. 0,2%, 0,1%, сейчас 0,28 %. До 1% мы никогда не доходили. То есть о нормальном развитии науки не может быть и речи.
— Больше 0,3% мы не тратили никогда. 0,2%, 0,1%, сейчас 0,28 %. До 1% мы никогда не доходили. То есть о нормальном развитии науки не может быть и речи.
— Я знаю, что Китай тратит 1,9%. А США?
— 2,8%. Почти 3% тратит на науку.
— Может, нам тогда просто не нужна наука?
— Даже если мы не будет развивать металлургические комплексы, компьютерные технологии, то развивать гуманитарную науку мы можем всегда. Историю Казахстана, историю народов, проживающих в стране, политологию… Пусть не синхрофазотрон строить, но тоже затратно.
— Я знаю, что у вас есть цифры, которые красноречиво говорят, на каком месте мы находимся по отчислениям на науку.
— Цифры, к сожалению, не совсем свежие. Это отчет 2013 года.
— А когда свежие будут?
— В декабре. Я слежу за отчетами с 2001 года. Вообще, они идут с 1991-го. Цифры принципиально не меняются. Мы с 69 места перешли на 66.
Зачем нам «соседствовать» с Албанией и Тринидад и Тобаго?
— Как вы это можете прокомментировать?
— Казахстан тратил 0,2 % от ВВП. А есть ли отдача? Графа «патенты, выданные резидентами и нерезидентами»: у нас 10,9 % на 1 млн человек. А наши соседи по таблице — Тринидад и Тобаго, Албания — в разы больше. То есть они либо покупают патенты, либо продают. А есть еще цифра «полученные лицензионные платежи и сборы» — то есть отдача. У нас – 0, у Сербии 7,8 $ на душу населения, у Ливана 1,7. То есть наука не зарабатывает.
— В год у нас получают патенты в среднем порядка 300-350 человек. За 2 года не было внедрено ни одного изобретения. Получается, патенты выдают, но они не нужны народному хозяйству?
— Наука — не единое целое. Она делится на фундаментальную…
— Я о прикладной науке говорю.
— Да. И есть еще научный менеджмент. То есть физик-теоретик рисует карандашом какое-то ведро. Потом физик-техник смотрит — есть ли оно на синхрофазотроне? А менеджер думает, куда это применить: на опреснение, на бомбу или в нанотехнологии. Это три разные вещи. Нельзя требовать от теоретика, чтобы он продвигал свою идею.
— Это вы к тому, что у нас менеджмента практически нет?
— Сапоги должен тачать сапожник, пироги печь пирожник. Менеджмента по продажам умов нет, поэтому умы и утекают.
— Утекают. Есть еще вопрос публикации научных трудов в мировом сообществе и индекс цитирования. Я удивился, что Узбекистан больше цитируется, чем Казахстан. Хотя в экономическом развитии мы их вроде опережаем.
— Здесь есть еще вариант — он может не совсем научный. Хотя Узбекистан нельзя принижать, это мощная база.
— У них на 2011 год было в 4 раза больше докторов и кандидатов наук.
— И не только.
После распада Советского Союза политической элитой предполагалось, что центром, который свяжет всю Центральную Азию, будет Узбекистан
В то время все научные центры сначала ехали в Узбекистан. Потом постепенно мы стали лидерами.
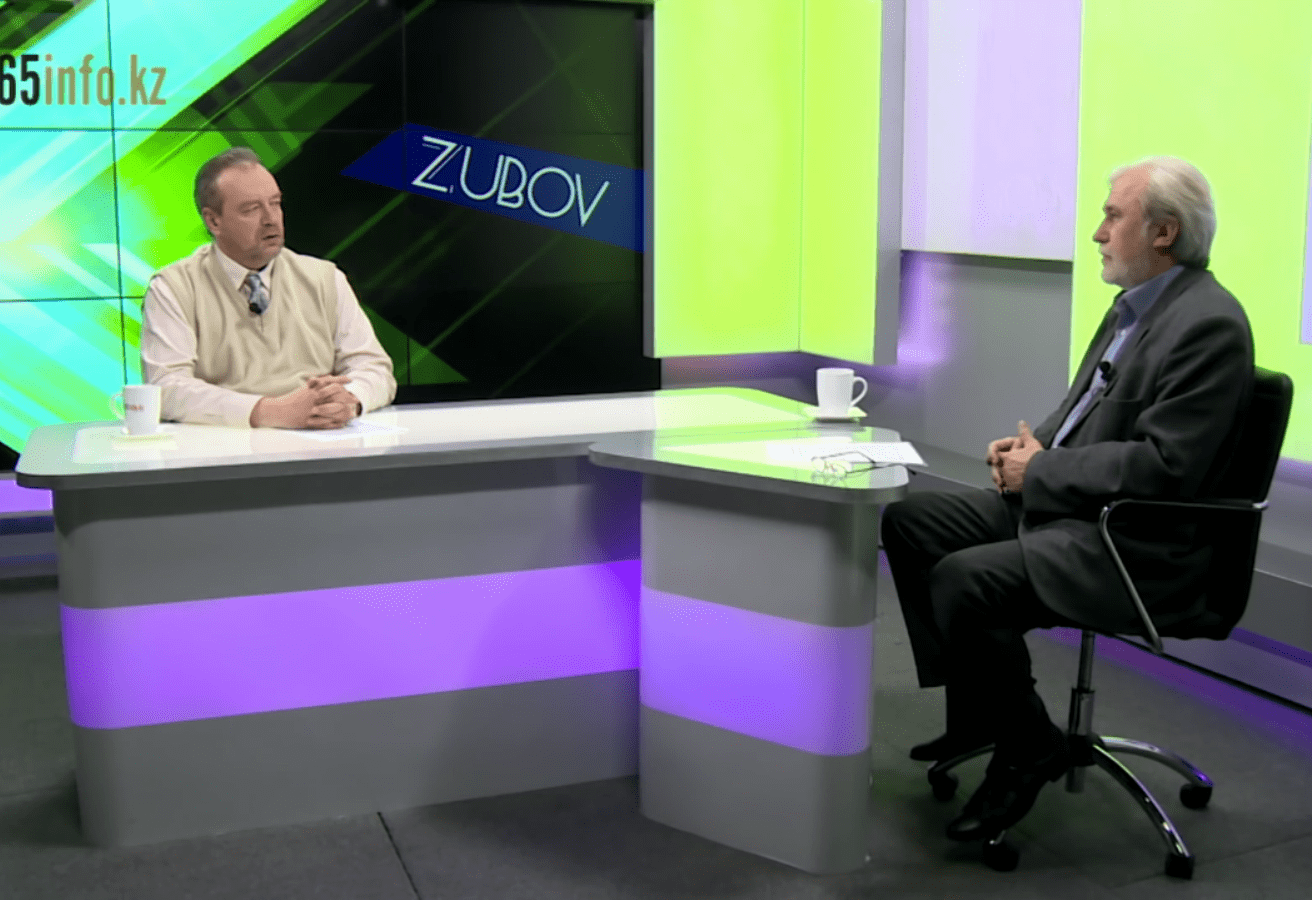
Кому интересен эпос «Кобланды батыр»?
— У нас сложно опубликоваться где-то в рейтинговом журнале?
— Я — историк. Я не знаю, как техникам… Думаю, что точным и естественным наукам попроще. А если занимаешься историей, еще и историей Казахстана, то почти нереально.
— Почему?
— Потому что в чисто исторических журналах антропология, которую нужно перевести на английский язык, отправить и ждать, если их заинтересует… Но с вероятностью 70-90 %, что они не заинтересуются. А если и заинтересуются, то еще полгода придется с ними переписываться. В итоге, они подведут под то, что им надо, а потом поставят на очередь и только спустя полтора-два года уже опубликуют.
— Красота!
— А кому в мире интересен эпос Кобланды батыра? Даже наши экономические разделы не очень интересуют Запад. А сейчас вообще, чтобы получить звание профессора, доктора, нужно в Thomson Reuters опубликоваться.
— А если они не пишут о наших проблемах, то это просто нереально…
— Как-то был случай. Провели социологическое исследование среди студентов и решили опубликовать его в каком-то японском журнале. Но пришел ответ – «мы не можем вас опубликовать, потому что у нас нет специалистов, способных вас прорецензировать». То есть, если я напишу работу, великолепную для нас, но там они не знают, что с ней делать, ее не опубликуют. А если меня не публикуют там, то я не пойду по лестнице здесь. Замкнутый круг. Особенно это касается гуманитарных наук. Я не думаю, что на Западе интересуются глаголами казахского языка.
— Может, нужно создать какой-нибудь евразийский научный журнал?
— Нужно создать свою базу цитируемости. Но в это тоже нужно вкладывать средства и продвигать. Пока официально признаны Scopus, Thomson Reuters.
Чем «мертвые души» мешают науке?
— В докладе ЮНЕСКО есть еще пункт о защитах. У нас сейчас происходят защиты диссертаций?
— Да, но система очень изменилась. Если раньше человек мог написать что-то на чердаке, выставить на защиту, защитить, пройдя определенные этапы как кандидатский минимум, то сейчас это невозможно. Раньше были кандидат и доктор наук, сейчас магистр и доктор философии – phd. Надо учиться 2-3 года в магистратуре, потом 3 года в докторантуре. Одним словом, учитесь и там же пишите.
— Это лучше, чем раньше было?
— Я считаю, что хуже. Потому что теряется школа. А если человек в 50-60 лет решил защититься?
— Ему придется опять стать студентом.
— Это сделано потому, что у нас много «мертвых душ» — кандидатов и докторов.
Любой аким хочет быть кандидатом или доктором
— У нас любой чиновник – доктор или кандидат.
— Мне кажется, можно было решить по-другому. В царское время, чтобы защитить диссертацию, нужно было публиковать, и они публиковались. Хотя не было таких типографских возможностей. Сейчас — пожалуйста, в интернете публикуй. Не автореферат, а всю диссертацию. Пусть люди ее видят. По идее, диссертацию при защите читают три человека – два оппонента и сам автор. Все. Больше ее никто в глаза не видит. Как-то я, работая в КазГУ, свою кандидатскую диссертацию рекомендовал студентам. И меня удивленно спрашивали: «Не боишься давать?». На что я ответил: «Это мое исследование». Хотя многие преподаватели даже боялись показывать свою работу.
— Все-таки стало прозрачнее.
— Да. Но для науки, я считаю, это нехорошо.
— Вы работаете в негосударственном университете. Там, наверное, можно действовать более гибко? Положение ученых лучше?
— Согласен. Но здесь есть две стороны. Первая – руководство нас стимулирует. Причем так, чтобы мы писали как можно дальше за рубеж.
— Это и есть мобильность?
— Мобильность – это когда мы выезжаем и читаем свои лекции.
— Отстал я за эти годы.
— Серьезного продвижения у нас пока нет. Но в отчетах уже есть графа «мобильность». То есть люди думают – куда бы съездить почитать лекции. Ездят на конференции. Сегодня, к примеру, наш коллега вернулся из Лиссабона. Дорогу оплатило AlmaU.
— А государственный университет может себе такое позволить?
— Нет. AlmaU — небольшой вуз, финансовых возможностей не так много, каждый раз руководство думает – пустить одного в Лиссабон или двоих в Москву?
Государство не помогает. И я этого не понимаю. Мы же казахстанские ученые и делаем наши исследования для Казахстана!
— Может, тому виной еще, как написано в докладе, и «проклятие ресурсов», которое тормозит науку во многих странах – в России, Азербайджане, у нас, в нефтедобывающих странах. Если бы мы перешли, как Норвегия, на создание новых технологий, тогда бы и наука…
— Я хочу сказать, что
в Швеции стоит памятник Петру 1 как Учителю за то, что он их разгромил под Полтавой и выдавил из моря
Швеция перестала развиваться вширь и использовала внутренние резервы. Она считается благополучной страной и в рейтингах занимает первые места. Шведы говорят, это благодаря тому, что их заставили искать внутренние резервы. Я сейчас не вспомню, какой именно министр сказал: «Зачем нам развивать сельское хозяйство? У нас очень много нефти. Мы купим хоть бананы, хоть ананасы».
— Я хочу сказать, что есть вещи подороже нефти. Это наши ученые и их головы. И наши с вами умы. Спасибо!
Видеоверсию смотрите здесь
050013, Республика Казахстан г. Алматы, мкр. Керемет, дом 7, корпус 39, оф. 472